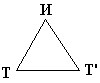ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ
ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ, термин, введенный в 1967 теоретиком постструктурализма Юлией Кристевой (р. 1941) для обозначения общего свойства текстов, выражающегося в наличии между ними связей, благодаря которым тексты (или их части) могут многими разнообразными способами явно или неявно ссылаться друг на друга.
При том, что различные проявления интертекстуальности известны с незапамятных времен, возникновение соответствующих термина и теории именно в последней трети 20 в. представляется неслучайным. Значительно возросшая доступность произведений искусства и массовое образование, развитие средств массовой коммуникации и распространение массовой культуры (как бы к ней ни относиться) привели к очень сильной семиотизации человеческой жизни, к ощущению того, что, по выражению польского парадоксалиста Станислава Ежи Леца, «Обо всем уже сказано. К счастью, не обо всем подумано» (кстати, сама данная цитата в настоящем абзаце является одновременно и иллюстрацией его основного тезиса), и если уж удастся придумать что-то новое, то для самого утверждения новизны необходимо сопоставить новое содержание с тем, что уже было сказано; если же претензии на новизну нет, то использование для выражения некоторого содержания уже имеющейся формы сплошь и рядом становится престижным указанием на знакомство автора текста с культурно-семиотическим наследием, с «сокровищами семиосферы». Искусство, а с какого-то момента и повседневные семиотические процессы в 20 в. становятся в значительной степени «интертекстуальными».
Подобно тому как семиотика – наука об общих свойствах знаковых систем – формировалась путем распространения на них результатов изучения естественного языка, теория интертекстуальности складывалась главным образом в ходе исследования интертекстуальных связей в художественной литературе. Однако в действительности сферы ее бытования много шире. Во-первых, она присуща всем словесным жанрам, а не только изящной словесности. Во-вторых, интертекстуальность имеет место не только в текстах в узком смысле, т.е. словесных (вербальных), но и в текстах, построенных средствами иных, нежели естественный язык, знаковых систем (см. ЗНАК; СЕМИОТИКА) Интертекстуальные связи устанавливаются между произведениями изобразительного искусства, архитектуры, музыки, театра, кинематографа. Например, известный фильм К.Тарантино Криминальное чтиво почти целиком скомпонован из сюжетных, жанровых и изобразительных цитат – так, герой Брюса Уиллиса в этом фильме, выбирая орудие мести, перебирает такие виды оружия или предметы, могущие служить оружием, за каждым из которых стоит известный фильм или даже целый жанр. В дальнейшем Криминальное чтиво само стало источником для интертекстуальных ссылок самого различного рода; в частности, упомянутая сцена была спародирована в сериале А.Митты Граница: таежный роман. Можно говорить о визуальной и звуковой интертекстуальности (тексты, ориентированные на прочие органы чувств, встречаются достаточно редко, но, в принципе, и в них можно представить себе интертекстуальные связи); отнюдь не редкость музыкальные, изобразительные, сюжетные, балетные и прочие цитаты и аллюзии и т.д.
Функции интертекста.
Интертекстуальные ссылки в любом виде текста способны к выполнению различных функций из классической модели функций языка, предложенной в 1960 Р.Якобсоном.
(См. ФУНКЦИОНАЛИЗМ В ЛИНГВИСТИКЕ)
Экспрессивная
функция интертекста проявляется в той мере, в какой автор текста посредством интертекстуальных ссылок сообщает о своих культурно-семиотических ориентирах, а в ряде случаев и о прагматических установках: тексты и авторы, на которых осуществляются ссылки, могут быть престижными, модными, одиозными и т.д. Подбор цитат, характер аллюзий – все это в значительной мере является (иногда невольно) немаловажным элементом самовыражения автора.
Апеллятивная
функция интертекста проявляется в том, что отсылки к каким-либо текстам в составе данного текста могут быть ориентированы на совершенно конкретного адресата – того, кто в состоянии интертекстуальную ссылку опознать, а в идеале и оценить выбор конкретной ссылки и адекватно понять стоящую за ней интенцию. В некоторых случаях интертекстуальные ссылки фактически выступают в роли обращений, призванных привлечь внимание определенной части читательской аудитории. Реально в случае межтекстового взаимодействия апеллятивную функцию часто оказывается трудно отделить от фатической (контактоустанавливающей): они сливаются в единую опознавательную функцию установления между автором и адресатом отношений «свой/чужой»: обмен интертекстами при общении и выяснение способности коммуникантов их адекватно распознавать позволяет установить общность как минимум их семиотической (а возможно и культурной) памяти или даже их идеологических и политических позиций и эстетических пристрастий (ср., например, диалог типа Который сегодня день? – Канун Каты Праведного, в котором на цитату из романа Трудно быть богом А. и Б.Стругацких, опознаваемую по слову который вместо какой, а также, конечно, по ряду экстралингвистических сведений, следует ответ другой цитатой из того же источника и, более того, из того же диалога, что в прагматическом плане означает: 'я опознал приведенную тобой цитату и сообщаю тебе, что и я хорошо знаком с данным текстом, из чего ты можешь сделать определенный выводы'). Такого рода настройка на семиотическую общность с помощью интертекста может осуществляться с большой степенью точности (нечто вроде «Свой – это тот, кто читал роман X и мемуары Y-a»).
Следующей функцией интертекста является поэтическая, во многих случаях предстающая как развлекательная: опознание интертекстуальных ссылок предстает как увлекательная игра, своего рода разгадывание кроссворда, сложность которого может варьировать в очень широких пределах – от безошибочного опознания цитаты из культового фильма (скажем, среди жителей России, да и бывшего СССР в достаточно широком возрастном диапазоне трудно найти человека, который не опознал бы такие цитаты, как Восток – дело тонкое или Павлины, говоришь? из Белого солнца пустыни или Если я встану, ты ляжешь из Операции Ы, а англоязычные кинозрители столь же отчетливо опознают и атрибутируют слова I'll be back из Терминатора) до профессиональных разысканий, направленных на выявление таких интертекстуальных отношений, о которых автор текста, возможно, даже и не помышлял (в таких случаях говорят о «неконтролируемом подтексте», «интертекстуальности на уровне бессознательного» и т.п.).
Интертекст, несомненно, может выполнять референтивную функцию передачи информации о внешнем мире: это происходит постольку, поскольку отсылка к иному, чем данный, тексту потенциально влечет активизацию той информации, которая содержится в этом «внешнем» тексте (претексте). В этом отношении когнитивный механизм воздействия интертекстуальных ссылок обнаруживает определенное сходство с механизмом воздействия таких связывающих различные понятийные сферы операций, как метафора и аналогия. Степень активизации опять же варьирует в широких пределах: от простого напоминания о том, что на эту тему высказывался тот или иной автор, до введения в рассмотрение всего, что хранится в памяти о концепции предшествующего текста, форме ее выражения, стилистике, аргументации, эмоциях при его восприятии и т.д. За счет этого интертекстуальные ссылки могут, помимо прочего, стилистически «возвышать» или, наоборот, снижать содержащий их текст.
Наконец, интертекст выполняет и метатекстовую функцию. Для читателя, опознавшего некоторый фрагмент текста как ссылку на другой текст (очевидно, что такого опознания может и не произойти), всегда существует альтернатива: либо продолжать чтение, считая, что этот фрагмент ничем не отличается от других фрагментов данного текста и является органичной частью его строения, либо – для более глубокого понимания данного текста – обратиться (напрягши свою память или, условно говоря, потянувшись к книжной полке) к некоторому тексту-источнику, благодаря которому опознанный фрагмент в системе читаемого текста выступает как смещенный. Для понимания этого фрагмента необходимо фиксировать актуальную связь с текстом-источником, т.е. определить толкование опознанного фрагмента при помощи исходного текста, выступающего тем самым по отношению к данному фрагменту в метатекстовой функции.
Таким образом, интертекстуальное отношение представляет собой одновременно и конструкцию «текст в тексте», и конструкцию «текст о тексте». Так, в строки А.Ахматовой из первого варианта Поэмы без героя (Но мне страшно: войду сама я, / Шаль воспетую не снимая, / Улыбнусь всем и замолчу) оказываются вписанными элементы текста А.Блока, посвященного А.Ахматовой: «Красота страшна» – Вам скажут, – / Вы накинете лениво / Шаль испанскую на плечи,... В то же время текст Ахматовой представляет собой новое высказывание о предшествующем тексте – тексте Блока, т.е. является по отношению к нему метатекстом, а текст Блока по отношению к ахматовскому – претекстом и подтекстом (subtext – в терминологии К.Тарановского и О.Ронена). Согласно О.Ронену, более поздние тексты, впитывая в себя фрагменты и структурные элементы текстов более ранних, подвергают их «синхронизации и семантическому преломлению», но не отвергают при этом и первоначальный смысл претекстов.
Подходы к изучению интертекста.
Интертекстуальность можно описывать и изучать с двух позиций – читательской и авторской. С точки зрения читателя, способность выявления в том или ином тексте интертекстуальных ссылок связана с установкой на более углубленное понимание текста или предотвращение его не-(до)понимания за счет выявления его многомерных связей с другими текстами. Например, строки Е.Баратынского Меж мудрецами был чудак: / «Я мыслю, – пишет он, – итак, / Я, несомненно, существую» становятся до конца понятными только при обращении к знаменитой фразе Декарта «Мыслю, следовательно, существую» (лат. Cogito ergo sum).
С точки зрения автора, интертекстуальность – это (в дополнение к установлению отношений с читателем) также способ порождения собственного текста и утверждения своей творческой индивидуальности через выстраивание сложной системы отношений с текстами других авторов. Это могут быть отношения идентификации, противопоставления или маскировки. Так, герой поэмы Москва – Петушки Вен.Ерофеева использует слова Баратынского (Есть бытие, но именем каким его назвать, – ни сон оно, ни бденье) для описания состояния крайнего опьянения, тем самым не просто ссылаясь на предшественника, но противопоставляя два (свое и Баратынского) употребления этой сентенции; само же жанровое определение формально прозаического произведения Москва – Петушки как поэмы устанавливает интертекстуальное отношение идентификации с Мертвыми душами Н.В.Гоголя – классическим примером прозаического произведения, отнесенного его автором к жанру «поэмы». Примером маскировки служит «мистифицированный перевод» в романе Подвиг В.Набокова. Герой романа, пребывая в эмиграции, размышляет об отношении иностранцев к русской литературе: Ему [Мартыну] льстила влюбленность англичан в Чехова, влюбленность немцев в Достоевского. Как-то в Кембридже он нашел в номере местного журнала шестидесятых годов стихотворение, хладнокровно подписанное «А.Джемсон»: «Я иду по дороге один, мой каменистый путь простирается далеко, тиха ночь и холоден камень, и ведется разговор между звездой и звездой». Слова англичанина, переданные Набоковым в прозе по-русски, воспроизводят переведенные на английский язык (и тем самым до известной степени замаскированные) стихотворные строки Лермонтова.
П.Тамми, опираясь на работы И.П.Смирнова и А.К.Жолковского, развил теорию «подтекста», основываясь на понятии «полигенетичности» текста, имеющей место в том случае, когда «в отдельном сегменте текста актуализируется не один только подтекст (или литературный источник), а целое множество источников».
Типологически выделяются два вида полигенетических связей. Первый вид взаимодействий может быть выражен формулой Т3 ¬ Т1 + Т2. В этом случае определенный фрагмент нового текста соотносим с двумя (и более) контекстами, не связанными между собой. Например, строки А.Вознесенского из поэмы Зодчие речи
Я лесенкой лез –
позвоночником Речи.
рождаются как сумма строк о «флейте-позвоночнике» В.Маяковского и Я по лесенке приставной / Лез на всклоченный сеновал – О.Мандельштама; за кадром же стоит еще и «лесенка» стихотворных рядов Маяковского.
Второй вид можно назвать «подтекстом в подтексте»: вставленные претексты встречаются в пределах друг друга, что восстанавливает причинную, историко-литературную связь; схематически этот тип можно обозначить формулой Т3 ¬ Т2 ¬ Т1. Так, конструкция сравнения в Псаломе 57 Г.Сапгира Это все глубоко наболевшее / и простое, как Доктор Живаго намекает на более глубокий подтекст (или прототекст), а именно отсылает к Простое, как мычание Маяковского, однако замена слова мычание на заглавие Доктор Живаго в этой конструкции отнюдь не случайна: она связана с тем, что в самом романе Доктор Живаго встречается формулировка «без всякого ущерба могли бы заменить эти слова простым рычанием», относящаяся к диалогу, который ведет гуляющий с бульдогом Комаровский со своим собеседником Сатаниди. При этом в структуре романа Пастернака образ Комаровского проецируется на образ Маяковского. Таким образом, интертекстуальность нейтрализует границу между формальным выражением текстов по оси «стих – проза».
При установлении интертекстуальных связей важен «принцип третьего текста», введенный М.Риффатерром («третий» здесь, конечно, условность; важно, что количество текстов больше двух). Опираясь на семиотический треугольник Г.Фреге, Риффатерр в работе 1972 предлагает свой треугольник, где Т – текст, Т' – интертекст, И – интерпретанта:
Риффатерр считает, что «интертекстуальность не функционирует и, следовательно, не получает текстуальности, если чтение от Т к Т' не проходит через И, если интерпретация текста через интертекст не является функцией интерпретанты». Это, согласно Риффатерру, позволяет говорить о том, что текст и интертекст не связаны между собой, как «донор» и «реципиент», и их отношения не сводимы к примитивному представлению о «заимствованиях» и «влияниях». Благодаря интерпретанте происходит скрещение и взаимная трансформация смыслов текстов, вступающих во взаимодействие.
Механизмы интертекстуальности.
Восстановление интертекстуальных отношений в новом тексте происходит на основании «памяти слова»: референциальной, комбинаторной, звуковой и ритмико-синтаксической. Если комбинаторная память слова – это зафиксированная сочетаемость для данного слова как в общем, так и индивидуальном поэтическом языке, то референциальная память слова вызывает к порогу сознания круги значений и ассоциаций из прежних контекстов, создавая этим дополнительные приращения смысла в создаваемом заново тексте. Референциальная память слова как бы вбирает в себя смысл предыдущих и последующих слов, расширяя этим рамки значения данного слова. Именно потому, что в референциальную память слова уже вложена его комбинаторная память, происходит расшифровка метафор-загадок и более сложных иносказаний. Так, в строках из текста Л.Губанова На смерть Бориса Пастернака: Ты сел за весла переводчика, / благоволил к Вам пьяный Фауст /но разве этих переводчиков/ у нас в России не осталось? референциальная и комбинаторная память строит проекции к заглавию стихотворения Сложа весла (книга Сестра моя – жизнь), а также к многочисленным переводам Пастернака, в том числе и Фауста. Пьяным же у Пастернака оказывается Шекспир из одноименного стихотворения, разговаривающий вслух со своим сонетом. Таким образом, иносказание проходит путь «дешифровки», в результате которой восстанавливается пропозиция: «Пастернак – переводчик Фауста и произведений Шекспира, – «сложа весла» своей поэзии, занялся переводами других, не изменяя своему поэтическому стилю».
Так в поэтических текстах разрешается «цепь уравнений в образах, попарно связывающих очередное неизвестное с известным» (Б.Пастернак), и это разрешение одновременно происходит и на фоническом уровне, когда вступают в действие звуковая и ритмико-синтаксическая память слова. Под звуковой памятью слова понимается его способность вызывать в памяти близкозвучные слова, принадлежащие другим текстам, либо собирать слова из звуков данного текста, строя отношения с другими текстами на основании так называемой паронимической аттракции (см. ЗВУКОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКСТА). Так, например, в тексте Мандельштама Помнишь, в греческом доме: любимая всеми жена – / Не Елена – другая – как долго она вышивала? / Золотое руно, где же ты, золотое руно? / Всю дорогу шумели морские тяжелые волны, / И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно, / Одиссей возвратился, пространством и временем полный на переразложении и взаимном наложении ситуаций различных древнегреческих мифов рождается анаграммированный неназываемый интертекстуальный субъект – Пенелопа, который складывается, как в «вышивании», из пересечений звукового состава слов: Помнишь – Не Елена – полотно – полный.
Ритмико-синтаксическая память слов, в первую очередь, включает в себя «память рифмы», что связывает ее с комбинаторной и звуковой памятью слов (ср. у А.Вознесенского рифму, отсылающую к стихотворению Зимняя ночь Пастернака: В нынешнем августе крестообразно / встанут планеты в ряд. / Простишь, когда сами рабы соблазна / Апокалипсис сотворят?), а во вторую очередь – устойчивые ритмико-синтаксические формулы, созданные на основе звуковых, синтаксических, ритмических и метрических соответствий. Ритмико-синтаксическая память слова коррелирует с понятиями ритмико-синтаксического клише и «семантического ореола метра» К.Тарановского и М.Л.Гаспарова, однако включает в себя память не только о ритмико-синтаксических, но и ритмико-семантических и морфологических построениях в поэтическом языке. Например, многие строки А.Ахматовой (И чем могла б тебе помочь? / От счастья я не исцеляю; В кругу кровавом день и ночь / <...> / Никто нам не хотел помочь и др.) перекликаются по структуре и восстанавливают в памяти строки А.Блока (О, я не мог тебе помочь! / Я пел мой стих... / И снова сон, и снова ночь; Над мировою чепухою; / Над всем, чему нельзя помочь / Звонят над шубкой меховою, / В которой ты была в ту ночь).
Типы интертекстуальных отношений.
Наиболее общая классификация межтекстовых взаимодействий принадлежит французскому литературоведу Жерару Женетту. В его книге Палимпсесты: литература во второй степени (1982; рус. перевод 1989; палимпсестом называется рукопись, написанная поверх другого текста, счищенного для повторного использования писчего материала, обычно пергамента, элементы старого текста иногда проступают в новом; отсюда – эта популярная метафора для обозначения интертекстуальных отношений) предлагается пятичленная классификация разных типов взаимодействия текстов:
– интертекстуальность как соприсутствие в одном тексте двух или более текстов (цитата, аллюзия, плагиат и т.д.);
– паратекстуальность как отношение текста к своему заглавию, послесловию, эпиграфу;
– метатекстуальность как комментирующая и часто критическая ссылка на свой претекст;
– гипертекстуальность как осмеяние или пародирование одним текстом другого;
– архитекстуальность, понимаемая как жанровая связь текстов.
В первом классе, который носит название собственно интертекстуальности, важно провести различие между явлениями «цитаты» и «аллюзии». Цитата – это воспроизведение двух или более компонентов претекста с сохранением той предикации (описания некоторого положения вещей), которая установлена в тексте-источнике; при этом возможно точное или несколько трансформированное воспроизведение образца. Аллюзия – заимствование лишь определенных элементов претекста, по которым происходит их узнавание в тексте-реципиенте, предикация же осуществляется по-новому.
Так, например, строки А.Вознесенского
Поэты любят имя повторять –
«Сергей», «Владимир» – сквозь земную осыпь.
Он имя позабыл, что он хотел сказать.
Он по себе вздохнул на тыщу лет назад:
«Ох, Осип...»
включают в себя несколько трансформированных цитат с исходной предикацией из поэзии О.Мандельштама (Я повторяю это имя; Легче камень поднять, чем имя твое повторить! и Я слово позабыл, что я хотел сказать); трансформация вызвана заменой лица (Я ® Он) и обобщением (Я ® поэты).
В случае аллюзии заимствование элементов происходит выборочно, а целое высказывание или строка претекста (или текста-донора), соотносимые с новым текстом, присутствуют в последнем как бы «за текстом» – только имплицитно. Показательный пример – аллюзия, ориентированная на «школьные цитаты» у В.Нарбиковой в повести «План первого лица. И второго»: Я говорил, что в красоте жить нельзя, что ничего не получится, – это слова героя, который носит знаменательную фамилию Додостоевский. Из «цитатного атома» «красота» и части фамилии героя «-достоевский» складывается классический тезис Ф.М.Достоевского «красота спасет мир», который стоит за текстом Нарбиковой. В случае цитат цельная строка также может складываться из элементов нескольких строк, как в повести Река Оккервиль Т.Толстой (Он купил хризантем на рынке – мелких, желтых, обернутых в целлофан. Отцвели уж давно. [восстановление предикации] <...> Черный ход, помойные ведра, узкие чугунные перильца, нечистота. Сердце билось. Отцвели уж давно. В моем сердце больном), однако ее прежняя предикация лишь восстанавливается в новом тексте, а не рождается заново.
По формулировке И.П.Смирнова, в случае цитации автор преимущественно эксплуатирует реконструктивную интертекстуальность, регистрируя общность «своего» и «чужого» текстов, а в случае аллюзии на первое место выходит конструктивная интертекстуальность, цель которой – организовать заимствованные элементы таким образом, чтобы они оказывались узлами сцепления семантико-композиционной структуры нового текста.
И цитаты и аллюзии можно типологизировать по степени их атрибутированности, а именно по тому, оказывается ли интертекстуальная связь специально обозначенным фактором авторского построения и читательского восприятия текста или нет. Так, у А.Вознесенского цитаты из Мандельштама атрибутируются благодаря вписанному в текст имени поэта Осип, которое задает всю звуковую организацию текста; в повести В.Нарбиковой аллюзия тоже атрибутирована, но чувствуется попытка затемнить атрибуцию. В цитированных выше строках А.Ахматовой о «шали» аллюзия вообще никак не атрибутирована.
Именная аллюзия иногда выступает как реминисценция. Под реминисценцией понимается отсылка не к тексту, а к некоторому событию из жизни другого автора, которое безусловно узнаваемо. Примером реминисценции служит введение имени Н.Гумилева в стихотворение Л.Губанова На смерть Бориса Пастернака: В награду за подземный бой / он был освистан и оплеван. / Тащилась первая любовь / в кровавой майке Гумилева. Однако в поэзии «реминисценция» часто оборачивается аллюзией. Так, у самого Гумилева в Заблудившемся трамвае фигурирует аналог «кровавой майки» – «красная рубаха» палача, и эти два синонимичных на некотором глубинном уровне понятия вступают в отношение конверсии: В красной рубахе, с лицом, как вымя, / Голову срезал палач и мне. Заметим, что и строки о «воспетой шали» в Поэме без героя также рождаются на пересечении реминисценции и аллюзии.
Возможностью нести аллюзивный смысл обладают элементы не только лексического, но и грамматического, словообразовательного, фонетического уровней организации текста; он может также опираться на систему орфографии и пунктуации, а также на выбор графического оформления текста – шрифтов, способа расположения текста на плоскости (см. АЛЛЮЗИЯ; ДИАКРИТИЧЕСКИЕ ЗНАКИ)
Интертекст и тропы.
Проблемы межтекстового взаимодействия ставят вопрос о соотношении понятий интертекста и тропа и о рассмотрении интертекста как риторической фигуры. Поскольку межтекстовые отношения и связывающие их формальные элементы по своей природе и проявлению очень разнообразны, однозначного ответа на вопрос, с каким именно тропом может быть сопоставлено интертекстуальное преобразование, по-видимому, не существует. В нем обнаруживаются признаки и метафоры (М.Ямпольский), и метонимии (З.Г.Минц; в частности, синекдохи – О.Ронен), а в определенных контекстах также гиперболы и иронии (Л.Женни). При этом обнаруживается, что и декодирование тропов и расшифровка интертекстуальных отношений основаны на «расщепленной референции» (Р.Якобсон) языковых знаков, или «силлепсисе», в терминах М.Риффатерра. Однако и в том и другом случае для адекватного понимания смещенной по своей синтагматике конструкции необходимо обращение к пространству языковой памяти: либо к целостной системе переносов, узаконенной в поэтическом языке, – так называемым «поэтическим парадигмам» (Н.В.Павлович), либо к целостной парадигме текстов, создающей культурный контекст для данного текста.
Интертекст, как и метафора и метонимия, не знают границ какого-либо одного языка (ср. например, игру на прямых и обратных переводах у В.Набокова), какого-либо одного способа и средства художественного выражения как собственно внутри языка (межтекстовые параллели не акцентируют разделение на стих и прозу), так и при смене средств выражения, характерных для разных искусств, что порождает явление так называемой интермедиальности. Сложное переплетение интертекстуально-интермедиальных аллюзий, например, представлено в стихотворении Г.Айги Казимир Малевич, где словами и линиями, образованными знаками тире, нарисована некоторая общая картина авангардного искусства 20 в.:
город – страница – железо – поляна – квадрат:
– прост как огонь под золой утешающий Витебск
– под знаком намека был отдан и взят Велимир
– а Эль он как линия он вдалеке для прощанья
– это как будто концовка для Библии: срез –
завершение – Хармс.
Тут и знаменитый Черный квадрат Малевича, и Витебск, почти всегда присутствующий в картинах Шагала, и «намеки слов» Велимира Хлебникова и его Слово об Эль, где поэт пытается описать буквы на языке тригонометрии: Эль – путь точки с высоты, / Остановленный широкой / Плоскостью; в «живописном» контексте стихотворения Эль может быть понято одновременно и как аллюзия к части псевдонима художника-графика того же периода Л.М.Лисицкого (Эль Лисицкого). Концовкой же этой эпохи становится Хармс, абсурдистское творчество которого уподоблено «концу света», предсказанному Библией. И именно Хармс читает над могилой Малевича стих, посвященный его памяти (На смерть Казимира Малевича).
Формальные показатели интертекстуальных связей сами могут входить в состав тропов и стилистических фигур. В сравнениях и метафорах чаще всего выступают имена собственные, которые служат концентрированным «сгустком» сюжета текста, вошедшего в литературную историю. Лирический герой или уподобляется библейскому (классическому) прототипу, как в примере из А.Блока (Вот я низвержен, истомлен, / Глупец, раздавленный любовью, / Как ясновидящий Самсон, / Истерзан и испачкан кровью), или противопоставляет себя ему, как у Баратынского: Безумству долг мой заплачен, / Мне что-то взоры прояснило; / Но, как премудрый Соломон, / Я не скажу: все в мире сон! Аналогия с прототипами может задаваться предикативным отношением (Слыть Пенелопой трудно было) или метафорической номинацией (Но порой, / Ревнивым гневом пламенея, / Как зла в словах, страшна собой, / Являлась новая Медея!) – так раскрывается характер Нины в Бале Баратынского.
Интертекстуальные сравнения и тропы могут выстраиваться в цепочку, определяя развитие нового текста, или становиться метатекстом по отношению к тексту, в котором исходно было применено сравнение. Так, Пастернак в поэме «905» сравнил подымающийся дым с Лаокооном или, скорее, со скульптурной группой Лаокоон родосских мастеров):
Точно Лаокоон,
Будет дым
На трескучем морозе,
Оголясь,
Как атлет,
Обнимать и валить облака.
Это «интермедиальное» сравнение (визуальность его заложена в самой структуре пастернаковских строк) Ахматова в стихотворении Поэт, обращенном к Пастернаку, превратила в метатекстуальное, так как сосредоточилась на самом акте сравнения: За то, что дым сравнил с Лаокооном, / Кладбищенский воспел чертополох, / <...> / Он награжден каким-то вечным детством...
Основа интертекстуальной фигуры может обнаруживаться в обращении. Так, у Б.Ахмадулиной обращение задает атрибуцию цитаты, функция которой – создать параллель с пушкинским описанием осени: Судя по хладу светил, / по багрецу перелеска, / Пушкин, октябрь наступил. / Сколько прохлады и блеска! В открытом виде апелляция к предшественникам содержится в развернутом эпитете у М.Зенкевича, который также попадает в позицию обращения: О предрассветный, воспетый Бодлэром / И Брюсовым час, / Как лиловеют с сумраком серым / Орбиты глаз!
Слово в поэтическом языке обладает памятью и по частям, поэтому единичные в литературе словообразовательные контексты опознаются даже по отдельным морфемам: ср. строки И.Бродского Hиоткуда с любовью, надцатого мартобря, / дорогой уважаемый милая, но не важно / даже кто..., где очевидно следование беспорядочному словообразованию, синтаксису и датированию текстов в Записках сумасшедшего у Н.В.Гоголя. Идентификация текста-источника возможна даже и тогда, когда лежащие в основе интертекстуального взаимодействия строки представлены только первыми буквами. Ср. у В.Друка: Твой дядя с.ч.п. А мой не в шутку. Твой – ув. А твой? ТЕКСТ может быть прочитан только ТЕКСТОМ (Дневник прошлого года). В этом случае контекст становится «декодирующим устройством» и одновременно метатекстовой рамкой, внутри которой происходит не только дешифровка пушкинской цитаты, но и возникает новый поворот восприятия, связанный с образованием аббревиатуры.
Становится очевидным, что интертекстуальная активность мобилизуется именно тогда, когда читатель оказывается не в состоянии разрешить языковую и дискурсивную аномалию только на уровне системы метафорических и метонимических переносов языка, а также просто на уровне орфографических, согласовательных, пунктуационных правил и словообразовательных языковых моделей. В этом случае и происходит «взрыв линеарности» (Л.Женни) текста: воспринимающий пытается найти источник семантического преобразования данного «выбивающегося из правил» языкового выражения не в системе языка, а в сфере «индивидуально сотворенного смысла», уже отлитого в форму претекста.
Однако это не означает, что образования, включающие в себя интертекст, имеют «нетропную», одномерную структуру. И в случае собственно «тропных» переносов, и в случае, когда мы осуществляем некоторую «текстуальную интеракцию» (Ю.Кристева), глубинные процессы смыслообразования связаны с проникновением в саму структуру аналогий, сдвигов, взаимоналожений. Происходит выход из собственно языковой системы в систему метаязыка. И если понимание тропов и фигур, или способов «переиначивания» исходного положения вещей в действительном мире всегда опосредовано текстами, то и любая основа такого преобразования лежит в интертекстуальной и метатекстовой области.
Интертекстуальность и массовая коммуникация.
Те факторы распространения интертекстуальности, о которых было сказано в начале статьи, по-своему преломились в семиотическом пространстве России 1990-х годов, приведя к взрыву интертекстуальности в сфере массовой коммуникации и, прежде всего, в текстах СМИ. Интертекстуальные ссылки, зачастую весьма фривольного характера, стали распространенным приемом построения заголовков газетных и журнальных статей в довольно широком круге изданий, прежде всего тех, которые – при немалых идеологических различиях – подчеркивают свой разрыв с традициями советской журналистики.
Оглавление такого, например, журнала, как «Итоги», зачастую чуть не на две трети состоит из заголовков, содержащих интертекстуальные отсылки. Так, в № 3 (241) от 23 января 2001 подряд следуют статьи, носящие названия Все едино (ср. Все едино, что жить, что помирать и ряд других известных высказываний, построенных в соответствии с той же формулой); Кому инвестор, а кому олигарх (Кому война, а кому мать родна и др.); Новые игры доброй воли (о предложении Т.Тёрнера приобрести акции НТВ – реминисценция его давешней инициативы с Играми доброй воли в период взаимного бойкота Олимпиад со стороны США и СССР с их союзниками в годы «второй холодной войны»); Глобальная деревня (об обсуждении проблем глобализации в Давосе; использован и иронически переосмыслен – «деревня» здесь не весь мир, а Давос – термин М.Маклюэна); Конец курортного романа (о России в Давосе, выражение курортный роман – широко распространенное определение как определенного жизненного сценария, так и литературно-кинематографического поджанра); Русские в Альпах (ссылка на распространенную формулу, ср. итальянец в Нью-Иорке и др., а также русские в Париже); Кабила убит, да здравствует Кабила! (Король умер, да здравствует король!); Бертосса жалит последним (Хорошо смеется тот, кто смеется последним, плюс обыгрывание сходства слова оса с фамилией прокурора кантона Женева); Ойл, да не вечер (Ой, да не вечер, да не вечер...; естественно, о нефтяных проблемах). После двух материалов, заголовки которых как будто не содержат откровенных интертекстуальных ссылок, следуют, снова подряд, статьи Осторожно, животные! (хорошо известная формула, ср. Осторожно, мины! и др.); Французский связной (о культурной акции французской ассоциации, направленной на продвижение в Европе французского кино в противовес американскому, в заголовке при этом не без ехидства использовано название известного именно американского фильма); Концерт для монитора с оркестром (источник очевиден); Жертвоприношение (об издании переписки С.Довлатова с И.Ефимовым, заголовок неизбежно воспринимается как ссылка на название фильма А.Тарковского, а также и реминисценция темы эмиграции в русской культуре). Этим исчерпываются все крупные материалы номера, а кроме них имеются еще мелкие заметки, среди названия которых – две прямые закавыченные цитаты «Что за фамилия чертова?» и «Грешный мой язык...», а также «Мусульманам подложили свинью», «Чисть-до-дыр», «Бонд есть Бонд», «Была картошечка простая, а стала дорогая», «Получил по заслугам», «От нас уехал ревизор» и «Почувствуйте разницу»; причем данный номер журнала ни в коей мере не представляет собой какого-то исключения.
Представляется очевидным, что такой взрыв интертекстуальности в публицистике связан с реализацией всех тех функций, о которых было сказано в начале статьи: это и форма заявления своей позиции (культурной, социальной, политической, эстетической), и средство нацелить издание на определенную аудиторию, способную все эти ссылки распознать, и легкое развлечение для этой аудитории, и вполне серьезные – особенно в условиях той уникальной роли, которую играли СМИ до конца 1900-х годов, – усилия по дискредитации традиционных ценностей (интертекстуальные ссылки в публицистике часто носят снижающий характер, отсылая к ироническим поговоркам, плутовским романам и т.п.) и утверждению ценностей альтернативных, к числу которых относятся умение играть с формой текста и почти тотальная (хотя и с некоторыми исключениями) ирония.
Не остались в стороне от этого «интертекстуального взрыва» и другие жанры словесного творчества и виды искусств. Например, своего рода аналогом Тарантино в кино в российской бардовской песне стал Тимур Шаов, число вербальных и невербальных интертекстуальных ссылок в песнях которого порой исчисляются десятками, ср., например, отрывок из его Ночного свистуна:
Трубу прорвало, из подвала пахнет гнилью.
Свистит влюбленный третий час подряд.
В такую ночь, чтоб сказку сделать былью,
Был Зимний на гоп-стоп братвою взят.
[Цитата из знаменитой песни 1930-х годов, плюс ироническая реминисценция исторического события, плюс ссылка на хит А.Розенбаума 1980-х годов и весь «одесский текст» советской литературы, а также на современное увлечение терминологией криминалитета]
Жужжит в стакане пьяненькая муха,
[возможно, отсылка к Преступлению и наказанию и монологу Мармеладова]
Я соль рассыпал – значит, быть беде.
[ссылка на примету]
В такую ночь Ван Гог отрезал ухо
И Грозный треснул сына по балде.
[реминисценция «популярных историй», представленных в кино и на картине И.Е.Репина]
Пошла муха на базар
И купила самовар.
Заходите, черти,
Я вас пивом угощу.
[сперва прямая, а потом видоизмененная цитата из Мухи-цокотухи К.Чуковского, исполняемая на музыку Э.Грига – В пещере горного короля]
Черт заглянет на часок,
Он ни низок, ни высок.
[вслед за Чуковским – цитата из Теремка С.Маршака]
Здравствуй, паранойя,
Я – твой тонкий колосок...
[Иронически травестированная цитата из песни Русское поле, сопровождаемая соответствующей трансформацией мелодии].
Еще одной семиотической сферой, в которой достаточно часто используются интертекстуальные ссылки, является реклама. В силу мультимедиального характера большинства ее видов (текст, звук, включая узнаваемые голоса, изображение, музыка, в случае телевизионной рекламы – жанровые характеристики), в ней бывают представлены самые разнообразные виды интертекстуальных ссылок – от прямых цитат до порою довольно тонких аллюзий. Здесь мы тоже видим тот же набор основных функций интертекста, трансформированных с учетом специальных функций, выполняемых в обществе рекламой вообще и прежде всего центральным ее типом – рекламой коммерческой. Опознавательная функция интертекстуальности преобразуется в рекламе в инструмент точного нацеливания рекламных сообщений на конкретную целевую аудиторию, поэтическая – в способ смягчить априори негативное отношение к рекламе, референтивная – в средство формирования имиджа товара, услуги или (в случае корпоративной рекламы) фирмы. Так, например, цитаты из текстов российских рок-музыкантов в серийной рекламе «Нашего радио», с одной стороны, сообщают о том, что данные рекламные сообщения рассчитаны на тех, кто в состянии опознать эти цитаты, и в то же время информируют о специфике содержания программ данной FM-станции, тогда как оригинальный (порой фривольный) изобразительный ряд, который иллюстрирует эти тексты и в этом плане также является интертекстуальным, призван развлечь аудиторию. В одной из реклам «Нашего радио» изобразительный ряд представляет собой к тому же интертекстуальную ссылку к формальным особенностям древнеегипетской живописи (смешного вида милиционер поставлен в характерную позу, в которой было принято изображать фараонов в Древнем Египте, а его жезл удлинен до фараонского и только что не загнут; текст же «Правда всегда одна» – это сказал фараон взят из композиции Тутанхамон группы «Наутилус Помпилиус»; очевидно, что его интерпретация предполагает осознание специфических связей понятия правды с образом сотрудника ГИБДД/ ДПС).
В современную компьютерную эпоху актуальной оказывается также проблема соотношения понятий «интертекст» и «гипертекст». По мнению Дж.П.Ландоу, постструктуралистские определения идеального текста – «Всякий текст есть между-текст по отношению к другому тексту» (Р.Барт) и «Для познающего субъекта интертекстуальность – это понятие, которое будет признаком того способа, каким текст прочитывает историю и вписывается в нее» (Ю.Кристева) – как бы предрекли появление самого понятия «гипертекст». Неудивительно поэтому, что термин «гипертекст» появился почти одновременно с термином «интертекстуальность», введенным Ю.Кристевой. Как понятие он был терминологизирован Т.Нельсоном и Д.Энгельгардтом в 1967. Под «гипертекстом» стали понимать текст, фрагменты которого снабжены определенной системой выявленных связей с другими текстами и предлагают читателю различные «пути» прочтения. Таким образом, каждый текст оказывается включенным во всю систему созданных до него или параллельно с ним текстов, приобретает визуальное многомерное представление и становится «мультисеквенциальным», т.е. читается в любой последовательности. Более того, новый текст и исходные, к которым даны отсылки, могут одновременно сосуществовать на экране компьютера. Понятно, что такое представление текста уже самой своей структурой обеспечивает его «децентрацию», и поэтому совершенно естественно, что ориентация на «гипертекстуальное сознание» порождает тексты, созданные по типу словарей, энциклопедий или строение которых можно обозначить как «На Ваше усмотрение» (ср. заглавие романа Р.Федермана) или Сад расходящихся тропок (ср. название рассказа Х.-Л.Борхеса). Такая композиция текста в какой-то мере приравнивает на уровне интерпретации писателя и читателя, поскольку выбор и смена фокуса и пути чтения текста зависят по преимуществу от «потребителя» информации.
В этом смысле интертекстуальность и гипертекстуальность имеют разную направленность, на что, в частности, обращал внимание М.Риффатерр. Заданная в тексте авторская интертекстуальность – т.е. структурированная сеть ограничений, наложенных текстом на восприятие читателя, – находится в противоречии с аморфной сетью свободных ассоциаций, которую позволяет гипертекстуализация.
Наталья Фатеева, Павел Паршин
Тименчик Р.Д. Текст в тексте у акмеистов. – Труды по знаковым системам. XIV. Ученые записки Тартуского госуниверситета, вып. 567. Тарту, 1981
Тороп П.Х. Проблема интекста. – Труды по знаковым системам XIV. Текст в тексте. Ученые записки Тартуского госуниверситета, вып. 567. Тарту, 1981
Гаспаров М.Л. Ритмико-синтаксическая формульность в русском 4-стопном ямбе. – Проблемы структурной лингвистики. 1983. М., 1986
Золян С.Т. О семантике поэтической цитаты. – Проблемы структурной лингвистики. 1985–1987. М., 1989
Ильин И.П. Стилистика интертекстуальности: теоретические аспекты. – В кн.: Проблемы современной стилистики. Сборник научно-аналитических трудов. М., 1989
Тамми П. Заметки о полигенетичности в прозе Набокова. – В кн.: Проблемы русской литературы и культуры. Хельсинки, 1992
Арнольд И.В. Читательское восприятие интертекстуальности и герменевтика. – В кн.: Интертекстуальные связи в художественном тексте. Межвузовский сборник научных трудов. СПб, 1993
Жолковский А.К. Блуждающие сны и другие работы. М., 1994
Субботин М.М. Гипертекст. Новая форма письменной коммуникации. М., 1994
Смирнов И.П. Порождение интертекста. Элементы интертекстуального анализа с примерами из творчества Б.Л.Пастернака. С.-Петербург, 1995
Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – Текст – Семиосфера – История. М., 1996
Хартунг Ю., Брейдо Е. Гипертекст как объект лингвистического анализа. – Вестник Московского университета, сер. 9. Филология. 1996, № 3
Ронен О. Лексические и ритмико-синтаксические повторения и неконтролируемый подтекст. – Известия РАН. Сер. лит-ры и языка, т. 56. 1997, № 3
Фатеева Н.А. Типология интертекстуальных элементов и межтекстовых связей в художественном тексте. – Известия РАН. Сер. литературы и языка. 1998, № 5
Кузьмина Н.А. Интертекст и его роль в процессах эволюции поэтического языка. Екатеринбург – Омск, 1999
Руднев В.П. Словарь культуры XX века. Ключевые понятия и тексты. М., 1997 (2-е изд. – 1999)
Фатеева Н.А. Контрапункт интертекстуальности, или Интертекст в мире текстов. М., 2000
Ответь на вопросы викторины «Литературная викторина»